| |
|
 Предисловие,
Предисловие,
 Часть 1 ... Часть 3
Часть 1 ... Часть 3
 ,
Часть 4 ,
Часть 4

Часть
2. МЕСТО ИНСТИНКТОВ В ИСТОРИИ
Есть идеи невысказанные,
бессознательные и только лишь сильно чувствуемые…
таких идей много как бы слитых с душой человека.
Есть они и в целом народе, есть и в человечестве, взятом как целое.
Пока эти идеи лежат лишь бессознательно в жизни народной
и только лишь сильно чувствуются – до тех пор только и может
жить сильнейшей живой жизнью народ.
В стремлениях к выяснению себе этих сокрытых идей
и состоит вся энергия его жизни.
Ф. М. Достоевский
ОГРАНИЧЕНИЯ МЕТОДА
Вступая на минное поле, каковым в настоящее время является история
России, необходимо сразу договориться о правилах дискуссии, без соблюдения
которых мы получим дискуссионный взрыв, то есть уйдем от нашей задачи.
Применим ли наш подход к истории? И нет, и да.
Нет, потому что инстинкты не являются движущими силами, динамикой истории.
Движущими силами истории являются производительные силы, которые, постоянно
развиваясь, постоянно выламываются из рамок производственных отношений.
И пока нет никаких причин менять этот постулат на какой-либо другой.
Да, потому что разные нации в истории время от времени сталкиваются
с задачей выбора в условиях неопределенности, когда весь предыдущий
опыт не срабатывает и нужно находить нетривиальные решения.
Когда это происходит? Мы можем применять наши выводы к людям и к обществам,
но не к государствам. Государства иногда находятся в тяжелых ситуациях,
а общество и отдельные люди этого не чувствуют. Тогда люди не чувствуют
давления обстоятельств и принимают решения сознательно - выводя из анализа
обстановки или по образцу. Но как только начинается инфляция, неопределенность,
угроза имуществу и даже жизни – тогда человек не знает, что конкретно
делать. Для большинства людей резкие изменения в жизни происходят в
первый раз; анализировать обстановку, например, экономически, он привык
в старых понятиях, которые как раз и перестают действовать. Вот тогда
и вступают в действие инстинкты.
То, что происходит в моменты смут, революций, смен курсов и избыточного
давления внешних угроз происходит отнюдь не по законам экономики, хотя
экономика оформляет и поддерживает эти решения. Люди должны принять
решение либо сами, либо поддержать одно из нескольких, спущенных сверху.
В эти годы, месяцы, дни и иногда даже минуты люди не решают, какой
из предлагаемых путей более выгоден – они этого не знают. Откуда
им знать, они не экономисты. Они выбирают тот, который им кажется наиболее
“естественным”.
Ниже речь будет идти не о причинах и следствиях всевозможных смут, революций
и т.д., а только о формальной стороне, а именно: как ведут себя люди
до, в процессе и после исторических переходов. В эти моменты люди ведут
себя не так, как обычно и, в частности, не так, как предписано производственными
отношениями – ведь старые уже не действуют, а новые еще не созданы.
Инстинкт отзывается на неопределенность, трактуя ее как угрозу жизни.
Какие тут могут быть экономические соображения? Формы, в которых инстинктивное
решение находит себе выход, конечно, используют элементы старого мира,
заготовленные предыдущими этапами развития общества. Но больше эти формы
ничего общего с производственными отношениями не имеют.
Развитие производительных сил не объясняет всего многообразия событий.
Если бы все было так просто, как в учебнике по истмату, то древний Китай
развивался бы как древний Рим, современный индиец рассуждал бы как француз,
а американец мог бы свободно открывать свой бизнес в Японии и получать
прибыль, применяя чисто американские способы производства. Формы исторического
развития и его результаты настолько разнообразны, что приходится вводить
другие факторы, которые, если за ними не уследить, превращают историческую
науку в базар.
Фактически в истории принято рассматривать “комплекс” причин. “Комплекс” –
слово малопонятное. Каждый автор произвольно набирает в арсенал этого
“комплекса” свои любимые причины, после чего история толкуется в рамках
этого комплекса. В результате толкований истории навалом, все знают,
как объяснить то, что было вчера, но не могут угадать, что будет завтра.
Чем меньше объем “комплекса” причин, чем более они структурированы,
тем строже рассуждения, тем больше оснований доверять конечным выводам.
Поэтому, чтобы не терять строгости, я вообще вывожу рассмотрение за
рамки динамики истории, а исследую только ее формы, и то только в те
минуты, когда перед нацией и ее гражданами стоят задачи принятия решения
в условиях неопределенности. Мы уходим с минного поля, мы действуем
там, где раньше не было ни мин, ни поля. Толкований истории при этом,
конечно, не избежать, но эти толкования будут весьма ограничены и в
основном будут иметь вид иллюстраций. Динамика, определяющая сами исторические
события, остается, но описывается с минимальной детализацией, как фон,
на котором отчетливо проступает все многообразие форм исторических переходов.
Для полной ясности нужно еще ответить на вопрос: “Применимы ли методы
управления фирмой к управлению государством и объяснению исторических
событий?” Ведь, действительно, государство есть гораздо более сложный
механизм и на него действует гораздо большее количество факторов, чем
на фирму. Но в контексте применяемых в этом исследовании понятий этот
вопрос некорректно поставлен.
Управление фирмой описывается здесь как решение задачи принятия на
себя ответственности в ситуации неопределенности. Формы управления ставятся
в соответствие трем инстинктам (еда, наслаждение, оборона), а также
свойству сознания к различению, порождающему психическую динамику, сравнимую
по силе с инстинктами.
Инстинкты делят руководителей производства на архетипы. Исторические
катаклизмы также порождают типы деятелей, если движимых не инстинктами
на 100%, то выбирающих для достижения своих целей ту или иную инстинктивную
парадигму. Народ в зависимости от своего понимания ситуации выдвигает
наверх то вождя, то реформатора, то “отца нации”, то “великого кормчего”,
то “доброго дедушку”. Если политик достаточно умен, то он искусственно
воспроизводит ситуацию, в которой он востребован.
ЕСТЕСТВЕННЫЕ ВЕЩИ ОБЪЕДИНЯЮТ ЛЮДЕЙ
Люди могут сотрудничать, делать общее дело, если они соглашаются относительно
правил сотрудничества. Охотники загоняют мамонта, нанося удары ему,
а не друг другу, хотя последнее не исключено потом при дележе добычи.
Косари сообща косят луг, стараясь соблюдать ряды и не цеплять косой
чужие ноги. Купцы могут торговать, если один дает товар, а другой взамен
деньги или другой товар, а вовсе не пускает ему в живот стрелу из арбалета.
Но для более тесного сотрудничества людям нужно более тесное взаимопонимание,
а оно базируется на соглашениях, которые выражаются не средствами языка,
а поведением, образом жизни, предпочтениями и т.д. Оседлые народы не
доверяют кочевникам, хотя понимают их язык и мотивы, толкающие их с
одного места на другое. Кочевники считают оседлых ниже себя, но с удовольствием
торгуют с ними. Живя сотни лет рядом друг с другом, кочевники и оседлые
не смешиваются и в конце концов либо кочевники уничтожают оседлых, либо
наоборот, либо же одна группа ассимилирует другую, оставляя от культуры
ассимилируемых только клочки.
Люди объединяются в нации, национальности, в более мелкие группы или
в более крупные основываясь на том, какие вещи и модели поведения они
считают естественными, а какие нет. Если некто ведет себя понятно и
естественно, то это "свой", если же некто ведет себя необычно, то он
"чужой". Разделение происходит на самом дне сознательного уровня сознания,
когда трудно подобрать или невозможно подобрать слова.
Язык не является окончательным фактором разделения на “своих” и “чужих”,
но он есть большое поле для соглашения о естественном и носителем этих
соглашений. Диалекты языка, жаргоны социальных и профессиональных групп,
фольклорные различия – наглядный индикатор глубинных расхождений
в естественных понятиях. Часто если одна часть нации начинает жить как-то
по-другому, чем другие, то это моментально отражается на языке, даже
в рамках одной нации, одного города.
То, что считается естественным, обычно не произносится вслух и не обсуждается.
Если люди понимают друг друга без слов, например в том факте, что для
забивания гвоздей нужен молоток, то они могут сотрудничать. Это кажется
тривиальным и неинтересным только потому, что для нас это настолько
естественно, что и говорить об этом не стоит.
Именно из таких соглашений и складывается культурно-общественная основа
народности, а затем и нации.
Если нации говорят на разных языках, но их понятия о "естественном"
близки друг к другу, то нации образуют как бы супернацию.
Так, англичане и французы могут рассказывать друг о друге анекдоты
и посмеиваться; они могут объединяться в войне против германцев, но
если в дикой местности Африки на них нападут дикие племена, то англичанин,
француз и немец объявляют себя “европейцами” и забывают свои распри.
Более того, если среди них окажется американский негр, то он еще подумает,
рассуждать ли ему о своих африканских корнях или действовать заодно
с “цивилизованными” людьми.
Почему они действуют так? Что говорит на эту тему строгая наука? Кто
такие “европейцы”?
Анекдоты о русских, англичанах, французах и прочих являются очень яркими
иллюстрациями того, что различия проходят ниже объяснимого и вербализуемого
слоя понятий. В анекдоте представитель каждой нации должен принять решение
в обстановке неопределенности, правда спародированной и комичной. На
перечислении этих решений и фиксации их необъяснимых различий анекдот
закачивается. Так как решения “естественны” для каждой нации, получается
смешно. Анекдот фиксирует различия в “естественном”, но не может его
объяснить. Попробуйте объяснить, в чем был юмор – не удастся. Мотивировка
персонажей лежит вне понятий, обозначенных словами.
Все остальные попытки объяснить словами различия наций дают не больше
результата, чем попытки объяснения анекдотов. У русских, например, принято
давать в долг под честное слово – как это объяснить с точки зрения
производительных сил и производственных отношений?
ТРАДИЦИОННЫЕ И ЦИВИЛИЗОВАННЫЕ ОБЩЕСТВА – ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Общество, живущее долгое время на определенной территории, в не сменяющемся
климате, не меняющее источники пропитания и гастрономические пристрастия,
то есть общество, живущее в неизменной среде обитания, само становится
неизменным.
Членам такого общества достаточно выучить несколько процедур и традиций,
чтобы стать добычливыми охотниками, выращивать злаки, пасти скот, ублажать
богов, кормить семью и свое племя и продолжать род. Всем, что непонятно,
ведает шаман.
Такое общество будем называть "традиционным". Набор традиций составляет
всю культурную основу такого общества, больше ничего рядовому члену
такого общества знать не надо.
Время и пространство для таких обществ являются метапонятиями. Раз
сегодня происходит то же, что и вчера, раз завтра произойдет то же,
что было сегодня, то абстрактное понятие времени просто теряет смысл.
Пространство – это территория обитания, за с которой не имеет смысл
уходить; раз нет смысла проникать на другие территории, то и специально
держать в голове понятие пространства не нужно. Но тем не менее даже
первобытные люди рассчитывают свои действия в пространстве и времени,
не смея назвать их по именам.
Социальный статус члена первобытно-традиционного общества также настолько
неизменен, что нет смысла роптать, искать лучшей участи и вообще глупо
думать на эту тему.
Традиционное общество отлично живет сколько угодно веков, но только
если нет внешних изменений. Оно возвращается к стабильности, как шарик,
случайно отклоненный от своего ложа, снова скатывается на дно чаши.
Когда происходит непонятное, шаман и все общество пытается вместить
его в рамки традиционных представлений. Река обмелела, дичь ушла, лес
сгорел, урожай побил град– это все происки злых духов. Вводятся новые
формы общения с духами. Традиция усложняется и обогащается. И внешний
мир снова становится неизменным, так как традиция снова всем управляет.
Но изменения происходят снова и снова. Если они происходят достаточно
ритмично, традиционное общество успевает отреагировать на них новыми
традиционными установками. Но если изменения слишком неожиданны или
слишком масштабны, традиционное общество принуждено сменить традиционную
реакцию. Например, белые люди прибыли в Америку и полезли везде со своими
непонятными социальными установками и вещами и объем изменений оказался
совершенно беспрецедентными.
Это тяжелое испытание. Одни племена уходят дальше в лес. Другие обреченно
бросаются в бой и гибнут. Третьи с трудом приспосабливаются, теряя связь
со своими предками. И так далее.
Каждая традиционная нация рано или поздно сталкивается с валом внешних изменений
и с осознанием того, что на изменения нужно реагировать. Большинство
наций выбирает описанные выше способы пассивного или активного протеста.
Но в истории было несколько наций, которые выработали сами или усвоили
своеобразные протоколы эффективной обработки внешних изменений. Имена,
под которыми эти нации представлены в истории, известны всем. Это греки,
египтяне, инки, ацтеки, индийцы, персы, арабы, китайцы, европейцы, русские,
халдеи, римляне, то есть исторические цивилизации. Их очень мало, их
потрясающе мало.
Назовем народы, имеющие протоколы обработки изменений, "цивилизованными".
С того момента, как нация переходит от бессистемных попыток создать
еще одну новую традицию для обработки каждого внешнего отдельного изменения
к созданию абстрактных категорий, долженствующих обосновать создание
традиций для целых классов изменений, с этого самого момента зарождается
философия.
Появляются понятия времени и пространства, другие абстрактные категории.
Члены общества становятся социально подвижны. Нация становится непохожей
на своих соседей – и никто не может понять, почему. Традиции у
такого общества расцветают пышным букетом, но затем сменяются более
уточенным протоколом обработки любых изменений. Общество становится
цивилизацией, а традиционные соседи – варварами.
Если традиционное общество было стабильным и возвращалось к стабильности,
если могло, то цивилизованное общество устремляется по дорогам прогресса
к ускользающему миражу стабильного общества, которого уже никогда не
достичь.
ПРОГРЕСС НАЦИИ И МЕТАПОНЯТИЯ
Каждая историческая нация развивается и оформляется в условиях многобожия,
но время от времени ее постигает достаток и в ней разводится изрядное
количество мудрецов. Обычно это люди свободных профессий, одаренные,
энергичные и образованные. Мудрецы быстро обнаруживают, что многобожие
не очень-то объясняет феномены окружающего мира и призадумываются. Попутно
они исследуют тайны алхимии, математики и физики, разъезжают по соседним
странам и зачем-то интересуются делами давно забытых царей.
Попытка упорядочить разрозненные мифы, выстроить единый философский
фундамент и связать его с физикой, географическими открытиями и т.д.
обнаруживает такой букет противоречий, что приходится либо коренным
образом менять всю систему взглядов, либо зажимать свободу религиозных
исследований, напускать туман тайн и секретностей.
После этого можно еще лет сто-двести существовать спокойно.
Так было с разными вариациями в Китае, Египте, Греции, Индии, Вавилоне,
Риме, Византии.
Ситуация повторяется до тех пор, пока какая-либо группа языческих жрецов
не расслабится. Тогда независимые мудрецы разводятся в слишком большом
количестве, приносят ощутимую пользу, приобретают статус, бороться с
которым одними запретами уже невозможно, и шустро развенчивают язычество.
Но так как они ничего не могут дать взамен, им дают по шее и прогоняют.
Так, например, случилось в Египте.
Но процесс уже запущен. Мысль убить невозможно. Мудрецы приспосабливаются –
на то они и мудрецы. Они открывают философию – универсальный язык
религии, науки и культуры. Они продолжают поиски и приходят – явно
или неявно – к открытию метаязыка, то есть открывают существование
набора естественных соглашений, на которых строится философия и собственно
язык, а уж на них культура, религия, наука и т.д.
На метаязыке никто из нормальных людей не говорит. Это вроде Эвклидовых
аксиом. Предметы метаязыка кажутся абсолютно естественными вещами, говорить
о которых бессмысленно. Это понятия о времени, о пространстве, о жизни,
о смерти, а также о том, что и как надо есть, как надо одеваться, разговаривать.
Эти понятия человек получает на раннем этапе воспитания, часто еще до
того, как начинает говорить. Он обучается этим понятиям всю жизнь и
живет среди них, как среди само собой разумеющихся и воспроизводит их
во всех сферах своей жизни.
Например, первобытное племя, находящееся в изоляции от современной
цивилизации, живет по традициям и ритуалам, основанным на метапонятиях
цикличности или даже неподвижности времени. Вернее даже времени, как
мы его понимаем, в их менталитете нет. Сегодня было то же, что и вчера,
завтра будет то же, что и сегодня. Все вещи известны и просты; других
вещей нет. Шаман и старейшины знают и умеют все, что нужно для жизни.
Все, что непонятно, все, что выходит за рамки традиций, ритуалов и объяснений
шамана, есть происки сверхъестественных сил.
Таким образом любые изменений, приходящие из внешнего мира, отодвигаются
в область сверхъестественного. Изменения представляются чем-то невозможным,
не укладывающимся в сознание. Вещи таковы, каковы они есть, всегда.
Никакими другими вещи быть не могут, потому что они не могут быть другими
никогда. Поэтому среди “наук” в первобытном обществе могут существовать
только описательные дисциплины, истории никакой не может быть, кроме
перечисления предков, члены общества занимают строго определенные места
и выполняют раз и навсегда затверженные функции. Как мы видим, менталитет
такого общества консервируется из-за того, что не может принять в качестве
рабочей концепцию изменений. Раз такой концепции в менталитете племени
нет, то ее туда и не загонишь никаким уговорами. Невозможно рассказывать,
человеку, на языке которого может даже не быть понятия времени в “цивилизованном”
смысле, что время подвижно и нециклично.
Племя должно само как-то понять, что время - это не просто вчера, которое
такое же как сегодня. Для этого оно должно столкнуться с таким набором
изменений, чтобы их невозможно было игнорировать и привыкнуть к ним,
ввести его в круг естественных понятий. А это могут не все племена.
Древние китайцы преодолели этот барьер - и их менталитет сразу стал
резко отличаться от менталитетов окружающих народов, расцвели история,
науки, культура. Но, отказавшись от “суточного” времени, они запустили
его по большому кругу и обрекли себя на консервацию, пусть и на высшем
по тем временам уровне. В современном мире навалом народов, которые
социально остались на уровне племенного общества. Они склонны к замкнутому
существованию, свято соблюдают за свои традиции и ритуалы, приспосабливаются
к прогрессу, вместо того, чтобы в нем участвовать. Этим, кстати, можно
объяснить и современные конфликты на национальной почве – просто
“цивилизованные” государства навязывают слишком быстрый темп изменений.
Многие нации, не успевая приспособиться, требуют суверенитета, то есть
пытаются как бы уйти дальше в джунгли подальше от слишком необъяснимого.
Преодоление узости языческой философии происходит на уровне метаязыка.
Но редко бывает, чтобы оно решалось спекулятивным построением философа.
Трудно строить философские построения там, где нет для этого осязаемого
материала. Просто меняется сам метаязык, изменяются понятия о естественном
и только вслед за ним перестраивается философия, а за ней и все остальное.
Сам метаязык остается скрытым и невыраженным.
В качестве примера метапонятий, свойственных не традиционным, а цивилизованным
обществам, можно привести остроумное сравнение Шпенглером древнегреческой
и европейской культур. Шпенглер пишет, что греки, по крайней мере, древние,
не могли понять, что такое бесконечность и боялись даже мысленно подбираться
к этой теме. От этого они, создавая прекрасные здания, не заботились
о том, чтобы выстраивать их в линию, потому что перспектива, столь ясная
европейскому уму, для древнего грека была непостижимой. По той же причине
они не использовали голубую краску для рисования неба и не рисовали
картины с задним планом. Даже проницательные греческие математики, вплотную
приблизившиеся к открытию иррациональных чисел, остановились на пороге
этого открытия, казавшегося им чудовищным.
Восприятие бесконечности есть пример метапонятия, по-разному действующего
в сознании "цивилизованного" человека. Древний грек не смог бы понять,
что происходит, попав в европейский город. Но он бы ясно почувствовал,
что попал в чуждую ему среду. Он бы увидел не метапонятие, он даже вряд
ли смог подобрать слово, характеризующее неприятное чувство от того,
что улица кончается где-то за горизонтом.
Кстати, к метапонятиям относятся также и общепринятые в обществе процедуры,
в том числе и набор процедур реакции на изменения, в частности процедура
принятия решения в условиях недостатка информации. На примере, приведенном
Шпенглером мы видим, что выбор парадигмы происходит гораздо ниже речевого
уровня сознания, и только немногие представители нации могут опуститься
на самое дно сознания и обнаружить ущербность и ограниченность казалось
бы естественных вещей.
Для того, чтобы произошел переход от многобожию к единобожию, нужно
нечто большее, чем обычно напряжение сил касты мудрецов. История показывает,
что всю нацию, от правителей до нищих охватывает подъем. Все кому не
лень участвуют в религиозных спорах, воюют, изобретают ереси и вообще
сильно переживают. Толпы людей уходят в монастыри. Князья и государи
лезут в религиозные споры со своей медвежьей грацией.
Вся нация напряженно осваивает новую систему “естественных” установок.
Любое новое философское построение тут же проверяется суровой критикой,
кристаллизуются аргументы и камешек к камешку подгоняется прочный философский
фундамент.
В результате из новой системы “естественных” истин появляется новая
философия подобно тому как язык выстраивается из букв. Далее философский
язык используется для выражения религиозных и научных истин, культурных
достижений и т.д. и т.п. Философский язык развивается настолько, что
буквы уже не вызывают сомнений в своей естественности.
Кроме перехода к единобожию нация вознаграждается за философские искания
расцветом культуры, науки и т.д. и т.п.
Наций, переживших в своей истории момент подъема общественной и философской
мысли, на Земле немного. Подавляющее большинство наций ничем таким в
истории не отличилось. Волна внешних изменений ставит перед нацией выбор
- либо научиться эффективно впитывать изменения, выработать развитые
механизмы превращения их в “естественные” понятия, либо отступить в
традиционное прошлое, только приспосабливая новинки цивилизации к своему
быту. Первый путь требует длительного и драматического перехода. Многие
нации были отброшены назад и даже стерты с лица Земли, так и не завершив
этот переход. Это не означает, что одна нация хуже другой. Просто история
в основном посвящена нациям, испытавшим такой подъем и выразившийся
в появлении множества наук, религиозном прорыве и расцвете искусств.
Именно такие нации и испытывают интерес к истории и в конце концов и
формируют исторические модели и взгляды, в то время как народы, в историческом
опыте которых не случилось культурно-философского подъема, не формируют
собственного взгляда на историю и их представления об истории кажутся
нам неразвитыми и дикарскими. Но они вовсе не бедны. Традиционные общества
хранят богатейший фольклор, традиции, ремесла и знания, для поддержки
которых в “цивилизованном” обществе нет естественных институтов.
Причины того, почему одни нации проходят через подъем и заслуживают
собственные имена в истории (при этом имена обычно обобщающие и скрывают
множество фактических национальностей, составляющих нацию), а другие
остаются в исторической тени, здесь анализироваться не будут. С нас
для начала достаточно того факта, что с одними это было, причем со всеми
по-разному, а с другими нет.
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ И ИСТОРИЯ
Над “естественными” метапонятиями строится философия, над ней религия,
культура и наука, а над ними общественное и экономическое устройство.
Это происходит не всегда, а только если понятие времени как непрерывного
потока, несущего изменения становится естественным и понятным без слов.
“Изменения - закон жизни” написано в “Книге перемен”. Когда-то это надо
было доказывать, сейчас эта фраза кажется банальной.
Человек, являющийся частью общества, может не знать ни философии, ни
науки, ни прочих барских штучек, но тем не менее он олицетворяет вершину
всей пирамиды, построенной его предками над метапонятиями. Его общественное
положение, обычаи его деревни и семьи, способы проводить рабочее и свободное
время – все это выдумал не он, и не его отцы, и не его деды. Он
есть олицетворенная история нации и все, что его окружает, вплоть до
узора на рубашке, простирается, пусть неявно и скрыто, в историческую
глубь до самого метаязыка.
Хорошая аналогия – соотношение фундаментальных наук и прикладных.
Так простая зажигалка может быть изготовлена легко и ничего особенного
в технологическом смысле не представляет, но, тем не менее, для нее
была изобретена пластмасса, разведан и добыт газ или бензин, выплавлен
и выкован металл. А для того, чтобы хоть раз добыть бензин из нефти,
нужны уже профессора, проводившие когда-то раньше фундаментальные исследования.
А для того, чтобы этих профессоров когда-то обучили наукам, а не шаманским
пляскам, задолго до их рождения трудились философы и алхимики.
Люди одной нации одинаково относятся к еде, работе, свободному времени,
детям, богатству, бедности и т.д. Эти стереотипы складываются из поколения
в поколение. Когда-то новые и необычные, они становились привычными,
затем традиционными для следующих поколений и уже для их дальних потомков
они “естественны”. “Естественные” вещи становятся основой “естественных”
решений в производстве, политике, общественной жизни и культуре; когда
эти общепринятые в рамках данной нации “естественные” соглашения или
их следствия проникают в экономику и финансовую систему, то от них уже
никуда не денешься, даже если захочешь.
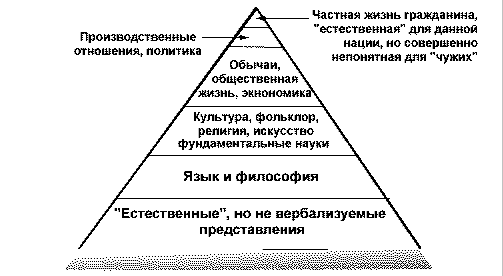
Рисунок 8. Пирамида, на которой базируется
решение гражданина каждой нации, неявно базируется на более основательных
слоях, которые, в свою очередь, базируются на представлениях гражданина
о "естественном".
Пирамида изменяется только снизу, то есть со стороны "естественных" понятий.
Боковые грани пирамиды можно представлять как критические слои, оценивающие
каждое внешнее привнесение на предмет непротиворечивости или возможности
встраивания в пирамиду. Это порождает консерватизм со всеми положительными
и отрицательными следствиями оного.
Нас интересует то, что процесс принятия решения в условиях неопределенности
также является специфическим для данной нации набором “естественных”
правил и регуляцией. Также как и все “естественные” понятия, они складываются
веками и отражают коллективный опыт всей нации, сгущенной до набора
идиом, народных мудростей и образцов поведения, воспроизводимых повсеместно
в границах проживания данной нации. Человек, причисляющий себя к некоему
обществу, выбирает ту парадигму, которую принято выбирать в этом обществе
в аналогичных ситуациях и для которой разработана общественно-культурно-экономическая-и-т.д.
инфраструктура.
Переход от многобожия к единобожию значительно обогащает исторический
опыт народа; слабо помня свою историю, каждый представитель нации
вовсю может пользоваться отработанными в этот период образцами и способами.
Для решения необычных проблем ему достаточно поговорить с соседями,
узнать, как обычно поступают в таких случаях. Если решения все-таки
нет, то человек предпринимает нечто необычное – но все-таки рамках
традиций, законов и экономических правил общества. А последние есть
ни что иное, как тот же слой пирамиды исторического опыта, в основе
которой лежат все тот же “естественный” метаязык.
Если спроецировать друг на друга историю нации и историю фирмы, то
период подъема, внешним признаком которого является переход нации
от многобожия к единобожию, соответствует предпринимательскому стилю
управления фирмой во время кризиса.
В терминах, более близких к исторической науке, можно сказать, что
нация должна осознать и эффективно отреагировать на перемены, но отдельные
люди не могут осознать сущность перемен. Они только узнают о них и
видят, что их жизнь от этих перемен стала хуже. Может быть потом,
задним числом, они и смогут осознать историческую сущность происходящего,
но жить надо сейчас и принимать решение нужно быстро. Для отдельных
людей исторические перемены и кризисы порождают задачу о принятии
ответственных решений в условиях неопределенности.
В производстве нужда в предпринимательском мышлении возникает тогда,
когда внутренний кризис не может быть решен административными мерами.
Лидеры указывают на решения, предприниматели прокладывают дороги в
неведомое, но для сдвига не какой-то фирмы, а всей нации на новый
уровень необходимы усилия каждого, пусть небольшие, но устойчивые.
Поэтому после того, как уже указаны новые цели и проложены дороги,
проходит время, прежде чем за появлением новых метапонятий, за новой
философией перестроится вся ткань общественной жизни, экономический
метаболизм обретет новые равновесные положения, изменения в укладе
жизни станут "естественными". Последний фактор и определяет то, что
периоды перехода менталитета нации от одного устойчивого состояния
к другому измеряются поколениями.
Эти процессы придают неповторимые формы каждому отдельному случаю,
однако они не меняют динамики истории. В конце концов, именно экономические
факторы приводят к необходимости перестраивать производственные отношения
и все что над ними. И в экономическом поле происходит оформление отношений,
сменивших устаревшие.
Но что происходит в момент смены одних отношений другими? По-прежнему
ли господствуют при этом экономические доминанты или вмешиваются другие
факторы?
Когда Робеспьер рубил головы своим друганам-якобинцам, о соответствии
этих действий производственным отношениям не задумывался ни он сам,
ни его друзья, ни зрители. Сама история никуда не девалась, Конвент
правил новые законы, люди привыкали жить в соответствии с новым уровнем
производительных сил. Нас интересует не это, а то, почему нация рукоплескала
Робеспьеру, а затем спокойно сдала его на расправу заговорщикам и
после горячо поддержала Бонопарта, разогнавшего этих заговорщиков.
А это произошло потому, что Робеспьер выполнил свою управленческую
задачу лидера и нужда в нем отпала; люди, восторженно шедшие за ним
из старой Франции в новую, давно уже пришли, надо было осваиваться
на новом месте, а лидер продолжал безумствовать и суетиться. Поэтому
сравнительно слабый заговор его уничтожил; не сумевшие внятно оформить
свои устремления заговорщики были затем сметены Наполеоном. Он, следуя
управленческой логике, ввел ясно обозначенные административные правила
внутри страны и, продолжая лидерскую логику, отправился во главе восторженных
армий на завоевание новых пространств.
Роль личности в истории, насколько мне известно, всегда сводилась
к рассуждениями типа “с одной стороны – с другой стороны –
нельзя отрицать отдельных личных качеств” и т.д. и т.п. Так в научной
истории целые главы, основанные на анализе экономических факторов,
перемежаются довольно странными описаниями похождений бесшабашных
личностей. Наука, например, не дает ни описания причин, побудивших
Александра Македонского скакать в Индию, ни мотивации греков, последовавших
за ним, ни описания мотивации тех, кто остался. Исследуя греков, мы
вообще постоянно попадаем впросак. Можно досконально изучить экономику
Греции, но для объяснения разницы между Афинами и Спартой требуется
нечто большее, чем экономика.
Да чего далеко ходить – ответьте, почему японцы не производят
персональных компьютеров, вернее не поднимаются выше игровых приставок,
а американцы производят с такой скоростью, что рынок иногда не успевает
подхватить новые модели? Это вопрос экономики, но для ответа нужно
нечто большее, чем экономика.
Почему, наконец, мы, имея под рукой все, в том числе и вполне ясное
понимание экономических наук, сидим и чего-то ждем?
Потому что мы не удосужились правильно поставить вопрос.
Чего мы хотим от истории? Объяснить прошлое? Отомстить прошлому?
Угадать будущее? Узнать, что с нами будет? Если так, то нам вполне
достаточно анализировать "комплекс" факторов, добавляя "специфику
каждого конкретного случая". Но попробуем поставить другую задачу –
сформировать принципы выхода из ситуации неопределенности. Нам нужно
добиться успеха, а не академических целей. Также, как фирме А из примера
выше нужно обогнать фирму Б и срубить деньжат, а не предсказывать
будущую ситуацию на рынке.
А успех в предприятиях такого рода достигается за счет намеренного
игнорирования "комплексности" и сосредоточения на одном, ключевом участке...
|